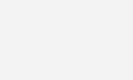Понятно, что это не единственное назначение шаров как таковых. Сегодня предлагается на аэростатах устанавливать станции постановки помех, элементы противоракетной обороны (ПРО), ретрансляторы различного рода радиосигналов, загоризонтную РЛС для обнаружения пиратами и так далее.
Автор этих строк имел возможность соприкоснуться с материалами 2-го НИИ ПВО в Твери, и сейчас во многом закрытыми, о шарах, залетавших в наше воздушное пространство из-за рубежей России. Нынешним же материалом мы хотим сказать, что интерес к «боевым баллонам» не исчезал никогда. Он то затухал, как во времена хрущевского самозабвенного интереса к ракетам, как возрождался, в том числе и ныне.
Однажды во время командировки на Кольском полуострове, неподалеку от станции Кандалакша, на сопке под названием Небло я обнаружил дотоле не известный мне обелиск в память о 13-ти погибших воздухоплавателях. Здесь 6 февраля 1938 года потерпел катастрофу флагман эскадры советских дирижаблей ОСОАВИАХИМа В-6. Он летел на спасение попавших в беду полярников станции «Северный полюс». И в те годы, и после к трагической истории исследователи не раз возвращались к ней, подчеркивая героизм и самоотверженность советских аэронавтов. Не говорили только о причинах трагедии. А хотелось узнать. И вот что получилось.
В 30-е годы мир охватил бум воздухоплавания. Дирижабли считали будущим транспортом и вооружением армий. Германская фирма «Цеппелин» построила 130 комфортабельных воздушных пассажирских кораблей грузоподъемностью до 100 тонн, они уже проложили путь в Арктику, облетели с посадками земной шар. Американские дирижабли типа «Acron» вмещали внутри своего корпуса 4-5 истребителей, которые взлетали и садились обратно в «чрево» «авианосца», находящегося в воздухе.
В 1931 году правительство Советской России, наверстывая отставание, создало «Дирижаблестрой» с КБ и заводами, учебное заведение для подготовки пилотов, инженеров и техников. За пять лет было построено 9 дирижаблей, среди них и В-6 — под руководством известного итальянского конструктора, профессора, пилота и генерала Умберто Нобиле, работавшего в СССР по контракту в 1932-37 годах. Объем корпуса корабля (18 500 кубических метров) наполнялся водородом, длина его 104,5 метра, высота подъема до 4,5 км, грузоподъемность 8,5 тонны при дальности полета 2 тыс. км. Три двигателя общей мощностью 815 лошадиных сил обеспечивали скорость 113 км/час.
Дирижабль можно сравнить с подводной лодкой: один принцип плавания, основанный на законе Архимеда, управление раздельными штурвалами по направлению и глубине. Корабль мог лететь на одном работающем двигателе или же плыть в дрейфе. Ни один отечественный самолет не имел тогда таких аппаратов по грузоподъемности, надежности и автономности. С земли корабль смотрелся как серебристая сигара величиной с крейсер.
Впервые В-6 поднялся со стапелей в воздух 5 ноября 1934 года. Облетывал его сам Нобиле. За три года службы налет дирижабля составил 1500 часов, экипаж под командой И.Панькова совершил на нем беспосадочный полет длительностью пять с половиной суток, частично при нелетной для авиации погоде. Это был мировой рекорд, побитый американцами лишь спустя 20 лет. Намечались открытие грузопассажирской линии Москва-Урал-Сибирь-Дальний Восток и вооружение такими дирижаблями ВМФ…
Полярная научная станция «Северный полюс» Ивана Папанина находилась во льдах уже девять месяцев. Сегодня известно: в феврале льдину с папанинцами стало выносить в теплые гренландские воды. Положение складывалось критическое. Имевшиеся в то время два ледокола стояли на ремонте, посадка самолета на льдину была невозможна, и выбор пал на дирижабль. В-6 должен был найти станцию, зависнуть над ней и в кабине на тросе поднять людей и научное оборудование.
Экипаж дирижабля был 19 человек. Возглавлял его командир эскадры Н.Гудованцев. Перед отплытием корабля в Долгопрудный под Москвой прибыли члены правительства Микоян и Берия, начальник Дирижаблестроя комкор Хорьков. Их визит подчеркивал значение и ответственность государственного задания.
Стояла суровая зима. По всей трассе предстоящего полета, сообщали синоптики, ветер, метель. Прозвучала команда «Отдать корабль в воздух!» и, подсвеченный прожекторами, «В-6» в февральском воздухе всплыл и взял курс на Ледовитый океан. Через сутки с небольшим он должен был совершить посадку на Кильдин-озере около Мурманска, дозаправиться и идти на розыск папанинцев. Ночь и день низко плыли в снегопаде, сильный боковой ветер вызывал бортовую и килевую качку. Командир приказал менять вахты через час.
Послушаем участника того полета бортинженера Устиновича. Владимиру Адольфович, с которым при жизни встречался автор публикации, имел 3 тысяч часов налета на дирижаблях, 850 парашютных прыжков. Службу полковник в отставке закончил в должности заместителя председателя Научно-технического комитета ВДВ. Пилот с 1932 года был награжден золотой медалью Santos-Dumont по дирижаблям.
— При такой болтанке, — вспоминал при нашей встрече Владимир Адольфович, — экипаж уставал, но все службы корабля работали бесперебойно. Днем через шахту я выходил на хребет корабля, в открытое пространство, и, держась за продольный канат (парашюта не было, с ним в шахту не поднимешься), шел от носа до кормы, осматривал корпус, газовые клапаны, стабилизаторы, рули… Потом эти сто метров шел обратно. Штурмана мне говорят: «По высотомеру 400 метров, метель, а земля просматривается, будто рядом. И на карте возвышенность не обозначена. Странно».
Скоро показалась группа огней — костры. Радист запросил Мурманск: зачем они, костры? Ответа не получил. Решили, что виной магнитные бури. Командир приказал с 300 метров подняться до 500 и так держать. По расписанию, я ушел в киль отдыхать, забрался в спальный мешок…
До Мурманска оставалось несколько часов лету. Около 19-ти из пелены снегопада проступило что-то огромное, темное.
— Гора! — выкрикнул штурман Г.Мягков.
— Право руля и вверх до отказа! — эхом откликнулся Годованцев. Но при скорости 110 км/час и видимости 150 метров в запасе экипажа оставалось не более 5 секунд, чтобы просигналить в мотогондолы «Стоп машина!», сбросить балласт…
Лязг и хруст ломающихся каркаса корпуса, шпангоутов, лонжеронов, стрингеров, скомканной гондолы заглушили вой полярного ветра. Корабль массой в 20 тонн по инерции крушил сосны на склоне сопки Небло. Ударившиеся друг о друга металлические части высекли искру. Огромным факелом вспыхнул вырвавшийся из разорванной оболочки водород, следом взорвались бензобаки. Слышны были стоны придавленных обломками, горящих заживо людей. Владимира Устиновича выбросило через дыру в корпусе, глубокий снег потушил горящие шлем и комбинезон.
13 аэронавтов сгорели заживо. Корабль догорал. Этот огонь стал спасительным для оставшихся в живых на тридцатиградусном морозе шестерых. Обходя обломки, они кричали: «Есть кто живые? Отзовитесь!». Ответом было молчание. На Кильдин-озере люди все еще ждали корабль. Это они развели костры, чтобы экипаж обошел Небло, но не получивший подтверждения по радиосвязи дирижабль шел прежним курсом…
В те годы катастрофы относили, главным образом, на счет стихии или вредительства. Действительная причина трагедии дирижабля В-6 в том, что экипаж имел на руках полетную карту «десятиверстку» выпуска… 1904 года. На ней не была «прописана» четко гористость района, но не было сопки Небло. Выдавшие карту специалисты Института картографии оказались в подвалах Лубянки, но только ли их здесь вина? Правительство посылало людей «землю в Гренаде крестьянам отдать», а свои земли не изучало. Сказалась и привычка легко рисковать «человеческим материалом». У Севморпути, правительства не было продуманного плана на случай эвакуации полярников, не говоря уже о спасательных службах. И В-6 был брошен на очередной прорыв, не имея на то совершенно никакого опыта.
Оставшиеся в живых аэронавты были доставлены в больницу Кандалакши, оттуда они направили телеграмму ЦК ВКП(б) и правительству: «…Гибель дирижабля не сломит нашу волю, нашу решимость выполнить любые поручения партии и правительства. …Мы с удвоенной энергией будем упорно работать над постройкой еще более мощных дирижаблей». И подписи: Матюнин, Новиков, Устинович, Почекин, Бурмакин, Воробьев. Такое было время. Назовем и погибших: Н.Гудованцев, В.Паньков, С.Демин, В.Лянгузов, Т.Кулагин, А.Ритсланд, Г.Мягков, Н.Коняшин, К.Шмельков, М.Никитин, А.Кондрашов, В.Чернов, Д.Градус. Урны с их прахом установлены на Новодевичьем кладбище, над ними — контур дирижабля В-6. Трагедия его экипажа — часть истории нашей страны, во многом также трагической.
Аэронавты 30-х были убеждены: за воздухоплаванием большое будущее. Они не ошиблись. Сегодня на Западе активно продолжаются работы по дирижаблестроению, уже многоцелевые корабли для обнаружения подводных лодок, сопровождения судов, смены судовых экипажей в акваториях, используются в ПВО и ПРО, для пассажирских перевозок. Теперь они безопасны, так как наполнены гелием.
И для российских просторов очень подошли бы экологически чистые, экономичные воздухоплавательные корабли, особенно там, где невозможно использовать самолеты. Не выглядели бы инородными телами такие корабли и в наших Вооруженных силах. Проектов много, но не всегда есть средства на их воплощение. Вполне возможно, проекты будут скуплены иностранцами, а нам придется покупать у них готовые дирижабли. Подобное, увы, уже было.
Ярослав Чухонцев
АНП